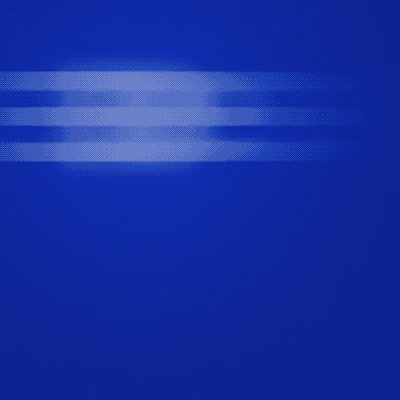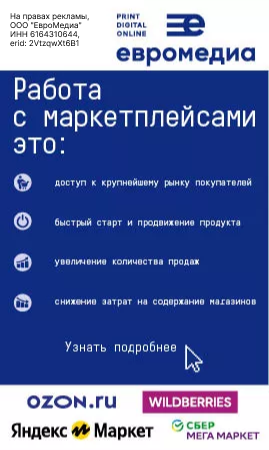В этом году банку «Центр-инвест» исполняется 30 лет. Обычно подарки дарят юбилярам, но в данном случае «Нация» и «Центр-инвест» сообща придумали подарок родному городу — проект «Гражданин Ростова-на-Дону». Мы расскажем истории 30 наших земляков, которые много сделали для города, прославили его не только в пределах России, но и за рубежом.
В рамках проекта уже опубликованы 17 очерков, среди них, например, истории о великом спортсмене Викторе Понедельнике, о создательнице французского журнала Elle Элен Гордон-Лазарефф, о гениальном актере Александре Кайдановском.
Сегодняшняя история о Мартиросе Сарьяне, главном армянском художнике XX века из ростовской Нахичевани.
Сегодня Мартирос Саркисович кажется забронзовевшим классиком, но когда-то его картины оскорбляли обывателей до скандалов, их жгли, одну он даже сам порезал. Они и теперь кажутся чересчур новаторскими, а в свое время поразили и Париж, и Венецию. Сарьян встал вровень с Матиссом и Сезанном, и всю жизнь искал только одно — нужный цвет.Степной детеныш
Даже сама фамилия Сарьян цветистая, как его яркие холсты. «Корень «сар» на восточных языках обозначает желтый цвет, то есть полноту света, солнечный ореол, — пышно писал о нем в журнал «Аполлон» известный поэт и критик Максимилиан Волошин. — Окончание ж его имени созвучно словам «рдяный», «пряный», «рьяный». Его имя звенит всем узывчивым и красочным романтизмом Востока».И все же родился Сарьян в 1880 году не на Востоке, а на Юге — в Новой Нахичевани, как называли свой город (теперь район Ростова-на-Дону) армянские переселенцы из Крыма. Мартиросу было три года, но он помнит, как его семья ушла из дома неуживчивого родного дяди и какое-то время ночевала прямо в степи, под открытым небом. От волков охраняла собака. Во сне Мартиросу виделось, что он схватил низко нависшую луну и как зеркалом пускает ей по степи зайчиков…
Отец Мартироса, Саркис, ставил ветряные мельницы по всей теперешней Ростовской области, поставил и дом для своей шумной семьи, детей было девять. «В приазовской степи, близ заросший камышом речки Самбек на невысоком холме отец мой вырыл колодец и построил домик из необожженного кирпича и покрыл его камышом. Наша большая семья жила в нем, как во дворце», — вспоминал Сарьян в автобиографии «О моей жизни».
Сарьяны жили обособленно: никаких соседей вокруг, никакой даже растительности. «Вокруг горизонт и прекрасная в своей пустынности и строгости бескрайняя степь. Вдали на холмах вырисовываются силуэты двух ветряных мельниц... а сколько их было в армянском селе Чалтырь!» Эти виды он будет вспоминать потом всю жизнь, считая, что именно тот хуторочек и босоногое счастье видеть, как утро сменяет день, а дождь — радуга, и сделали его как художника. «Детское восприятие всего этого неописуемо грандиозно и фантастично».Дружбу он водил тогда с пастухами и овчарками, любимым занятием было пригонять к вечеру лошадей с лугов. Жили скотоводством и земледелием. Впервые город Мартирос увидел, когда его семилетнего привезли в Нахичевань для поступления в городское училище, где занимались дети неимущих.
И хотя город и школа стали клеткой для «маленьких диких зверят», как называл себя с братом Сарьян, но именно здесь он встретил своего первого учителя рисования — Андрея Бахмутского. «По его предметам я всегда получал пятерки, а в конце года — похвальные листы». Пятерками сыпал и учитель географии: Сарьян приносил на уроки свои карты, раскрашенные акварелью. Но мог отсыпать и звонких затрещин, тогда это считалось в порядке вещей.
«Ставить в угол и на колени, выгонять из класса со словами «идиот, подлец, негодяй, скотина, дрянь» было обычным явлением». Город тоже не блистал культурой: «бесчисленные трактиры, питейные дома, увеселительные заведения. Пьянство, сопровождаемое уличными драками, и проституция».
Но вместе с этим традицией были и семейные «танцевальные вечера» под музыку бродячих шарманщиков. «Один армянин, — рассказывал Сарьян в автобиографии, —
вместо итальянской шарманки, называвшейся здесь органом, придумал местный инструмент, соответствующий духу и вкусам городского населения. Как и итальянские органы, его можно было носить на спине, но устроен был он так, что можно было играть при ходьбе. Исполнялось органом шесть русских, украинских и армянских песен. Изобретатель местного органа открыл в Новой Нахичевани фабрику и разбогател».
Без таких шарманок не обходилось ни одно народное празднество, включая и ярмарки после Пасхи на пустыре между Ростовом и Нахичеванью — Мартирос их обожал.
Ученик Серова и Коровина
15-летним юношей Сарьян устроился в нахичеванскую контору по приему подписки на журналы и газеты. Когда клиентов было мало, садился в углу и тайком рисовал с натуры. Однажды сделал набросок лица старого казака, служащего конторы. Один из покупателей заметил рисующего мальчика и попросил показать набросок. Похвалам не было конца!Вот только оригинал был не рад. Наутро служащий заболел, и обвинили в этом Мартироса! Когда старик поправился, пришлось изорвать рисунок на его глазах. Хозяин конторы велел раз и навсегда прекратить «глупости». «Мог ли я знать, — писал Сарьян, — что всю мою жизнь мое искусство будет удостаиваться таких столь исключающих друг друга оценок!»

Один из учеников Серова пораженно рассказывал, как Валентин Александрович для начала выгнал всех постоянных натурщиков, нашел нового и сразу предупредил, что и этот на три дня. «Никаких фонов, никакой тушёвки. Голый рисунок — и больше ничего!» Другой раз дал писать модель по памяти — такого не было никогда. Да еще и сел рисовать вместе со всеми. «Где же это видано, чтобы преподаватель, прославленный художник, рискнул на этот неосторожный шаг?»
«Серов и Коровин были совершенно разными по характеру. Серов был неразговорчив, как принято говорить, молчальник. А Коровин очень любил говорить. Они словно дополняли друг друга», — вспоминал Сарьян. После 6 лет обучения Мартирос вместо защиты диплома остается еще на полтора года в их мастерской на вечерних занятиях (его не смущает даже звание «неклассного художника» — такое давали бездипломникам).
У Серова и Коровина Сарьян учится точности рисунка, умению быстро выхватывать из карусели лиц и событий простые изящные линии. Ведь изящество, как писал в своей статье Волошин, происходит от глагола изъять, «изящество — изъятие всего лишнего». Сам Сарьян свою цель видит так — «достигнуть первооснов реализма».
Еще студентом он с товарищем отправляется в первое путешествие — в мифическую Армению, о которой так много слышал с пеленок. Он потрясен и зачарован. «Караваны верблюдов с бубенцами, спускающиеся с гор, кочевники с загорелыми лицами, уличная жизнь пестрой толпы; темные миндалевидные глаза армянок — все это было настоящее, о чем я грезил в детстве».Основной мотив его картин в это время — мифическая реальность. С двумя картинами, «Сказки» и «Мечты», в 1907 году Сарьян участвует в своей первой выставке в Москве. Это знаменитая «Голубая роза», первая коллективная русская выставка, выдержанная в единой эстетике. Тон всех 104 картин был действительно серо-голубой, а сюжеты походили на сон. Собственно, это была не столько выставка, сколько манифестация нового объединения «голуборозовцев» — художников-символистов второй волны.
Широкой публике она не понравилась, но произвела огромное впечатление на будущих авангардистов. Казимир Малевич приносил туда свой «Синий портрет»; его, правда, не взяли, но он говорил, что именно некая «предельность» «голуборозовцев» стала определяющей для него, Ларионова, Бурлюка: они увидели «живопись как таковую». А вот в церкви Казанской иконы Божьей Матери в Саратове, где однокурсники Сарьяна (Кузнецов, Уткин и Петров-Водкин) сделали в 1902-м фрески в том же стиле, художников не поняли совсем: их росписи сочли «немолитвенными и нехудожественными» и просто стерли.
Путешественник и художник Третьяковки
Сарьян принял участие еще в нескольких нашумевших выставках (в истории они остались, но ни устроителям, ни художникам денег не принесли). На одной из них особенно выделился играющий всеми цветами сарьяновский «Автопортрет». Некоторые посетители считали, что такой живописью над ними просто посмеялись: они «требовали обратно свои 40 копеек, указывая на мои оскорбительные картины, или швыряли каталог в лицо безвинному кассиру, не забывая при этом выругаться».Однако к этой же работе, как магнитом, притянуло знаменитого мецената Сергея Ивановича Щукина, известного коллекционера западной живописи и особенно постимпрессионистов и фовистов. Щукин был в восторге: «Работа чудесная! Вы великолепный портретист», и тут же заказал Сарьяну портрет своего сына. Сарьян ошеломленно молчал (портрет он, конечно, написал, на следующей выставке Серов его очень хвалил).Вообще именно коллекция Щукина вдохновила молодого Мартироса; по воскресеньям меценат устраивал по ней экскурсии для студентов-художников. Такого собрания не имел ни один музей: это были картины Сезанна, Матисса, Гогена, Ван-Гога, Пикассо — «бомбы» самого радикального течения начала века, пощечина общественному вкусу. (Щукин, по воспоминаниям, гордо показывал новоприобретенного Гогена и говорил: «Сумасшедший писал — сумасшедший купил».) Сарьян влюбился в «новую французскую живопись»: «Знакомство с французами меня еще более окрылило и убедило в правдивости моего пути».
Это немного самурайское высказывание (о «моем пути») характерно для Сарьяна: ему не нужно ни славы, ни денег, ни женщин. Он одержим живописью, отказывает себе во всем, только чтобы оставаться свободным художником и путешествовать в поисках новых образов. Прежде всего, в Константинополь! На корабле он попадает в ужасный шторм. Когда-то по пути в этот город погиб брат его прадеда, позже в шторме едва спасся сам прадед. Но упрямое желание оказаться в древней византийской столице было сильнее.
Поездка удачная. На выставке в Москве Сарьян показывает восемь новых картин, вдохновленных Турцией, лаконичных и очень цельных. Спустя несколько дней к нему подходит взволнованный устроитель: «Поздравляю! Комиссия Третьяковской галереи купила две ваших работы! Это первый случай, когда наконец-то приобрели работы молодых художников».Сарьян признан. Впервые в жизни у него на руках большая сумма — 400 рублей. Он навещает родные края и маму, с новым чувством смотрит на приазовские степи, увлеченно пишет «Цветы Самбека», «Утро в Ставрино», «В роще у Самбека». А затем на вырученные деньги предпринимает новые путешествия на Восток: в 1911-м в Египет, в 1913-м в Персию. Как писали критики, «в нем словно проснулись все коды Востока, на которых он вырос. Это было не столько узнавание Востока, сколько узнавание себя, своей культуры, своих корней».
Это из Египта он привозит собственную аксиому: «Порой и верблюду невмоготу: он плюется — это протест послушного». С верблюдом случилась неловкая история: Сарьян хотел наподобие бедуина ехать только на «корабле пустыни», а не на осле, как предлагал проводник. В итоге «корабль» ушатал его до морской болезни и самых неприятных воспоминаний о пустыне. И все же картины «Ночной пейзаж», «Финиковая пальма» стали новым колористическим прорывом, от них будто шел настоящий африканский жар.
Цвет для Сарьяна — самое главное. Чувство цвета было у него врожденным. Он говорил: «Если природный цвет — синий, но картина просит красного, я дам ей красный». Собственно, это поначалу и возмущало обывателей.
В Москве Сарьян мог бы почивать на лаврах: появились заказы, большие гонорары, своя мастерская. Но нет, у него свой путь. Он хочет видеть и рисовать Китай, Индию, Японию… Увы, все эти планы рухнули с началом Первой мировой войны. Хотя выставки по-прежнему устраивались, а авторитет Сарьяна рос, ему самому «все время казалось, что можно рисовать гораздо лучше и как-то новее». Он боится «дешевой славы» и «пошлых картин, глядя на которые человек задыхается».
Влюбленный в дочь сказочника
Оставив московскую мастерскую, он принимает решение уехать в Армению, «на свою истерзанную родину», куда в это время прибывают сотни тысяч беженцев из Турции (там в 1915 году начался геноцид армян. — Авт.). Вместе с друзьями Мартирос пытается помочь, но беженцев слишком много, многие умирают прямо на улицах. Одна из историй поражает его воображение. Беженка-мать, которая по очереди, неделя за неделей, хоронит своих пятерых детей; один из саванов она, не имея ниток, шьет, выдергивая из длинных кос темные волосы. От ужаса и бессилия Сарьян начинает медленно сходить с ума.Заметив признаки душевной болезни, друзья увозят его в Тифлис. Он долго не берет кисти в руки, не может писать. Но здесь, затмив все трагические события, происходит событие радостное, перевернувшее его личную жизнь. В Тифлисе 35-летний художник встречает прелестную девушку Лусине, или Лусик, дочь сказочника — армянского детского писателя Газароса Агаяна).
«Между нами не было романа — это была встреча двух людей, как бы давно знавших друг друга. Мы никогда не расставались. Даже простившись на время, я чувствовал ее присутствие рядом и знал, что это самый близкий мне человек». Следующие полвека Лусик, меняясь со временем, всегда будет появляться на картинах Сарьяна. Перед отъездом Мартироса в Москву она заказала два кольца, где была выбита дата их встречи: 15.10.15.Через полгода после знакомства они сыграли скромную свадьбу (деньги на нее нашлись, когда Сарьян в Москве написал удачный портрет жены Алексея Толстого) и переехали в Нахичевань, в одноэтажный дом на 1-й Софиевской улице (ныне ул. 1-я Майская, 29). На нем сегодня висит мемориальная доска: «В этом доме с 1916-го по 1921 год жил выдающийся художник современности…» Здесь в 1917-м рождается их первенец Саркис. А через три года — второй сын Лазарь (в 1950-х он станет учеником Шостаковича и впоследствии известным композитором).
В Ростове жизнь кипит — живут все впроголодь, но зато в 1921-м в Нахичевани на Бульварной площади (ныне пл. Свободы) открывается художественное училище имени Врубеля, где Сарьян ведет класс живописи. Он делает в это время иллюстрации для «Ориенталии» — книги Мариэтты Шагинян, рисует эскизы для спектакля «Принцесса Турандот», создает Армянский краеведческий музей и становится его первым директором. (Кстати, именно Сарьян в советское время сумел отстоять в Ростове старинный армянский храм Сурб-Хач; его долго использовали как зернохранилище, а потом и вовсе хотели снести.)
Революционера в искусстве новое государство принимает как своего. Недавно созданный в Москве ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) предлагает Сарьяну место, но он остается в Нахичевани, а вскоре, с семьей, снова едет в Армению, насовсем. В Армению, теперь уже советскую, его зовет новая власть. Старинный друг, ставший народным комиссаром просвещения, назначает Сарьяна советником по делам искусств и поручает организовать в Ереване ни много ни мало Союз художников республики, Музей ИЗО и художественное училище.Сарьян деятелен, полон надежд. Он пишет как никогда много — портреты артистов, литераторов, комиссаров новой Армении, саму Армению — яростно желтую, залитую радостным горячим солнцем. Расписывает занавес в первом государственном театре, придумывает герб молодой республики.
На гербе изображен священный Арарат, по поводу которого, как рассказывал позже график Борис Ефимов, Турция выразила протест: почему, мол, Армения поместила на свой герб гору, которая ей не принадлежит? На что тогдашний нарком иностранных дел Чичерин якобы ответил: «А почему на флаг Турции помещен полумесяц? Луна ведь тоже ей не принадлежит».
Признанный в Европе
В 1924-м Сарьяна приглашают на Венецианское международное биеннале. Из республик СССР там участвует только Армения. Советский павильон отличается от остальных: проект сделан без учета климата в Венеции. «Все павильоны кроме нашего вентилировались, — сокрушался позже Сарьян. — В нашем стояла такая баня, что посетители через несколько минут буквально выскакивали оттуда».Это, однако, не помешало критикам оценить советского новатора. Газета Il Monde восхищенно пишет: «И краски его, и рисунок заслуживают большего внимания с точки зрения исканий современного искусства. Трудно даже сказать, какая из этих двух сторон сильнее». Это была только одна из множества публикаций. Нахичеванский гений сразил европейцев.
После такого успеха довольные власти дают Мартиросу звание народного художника Армении. Принято решение строить для его семьи дом с большой мастерской и окнами на потолке (Сарьяны мыкались по съемным квартирам). Строительство тянулось 8 лет.
В 1926-м ему, как главному армянскому художнику, выпадает возможность исполнить давнюю мечту — побывать на родине импрессионизма. Он едет в Париж, изменчивый и вечный. Город его «и восхищает, и отталкивает». Встречавший там Сарьяна известный русский критик Эфрос писал: «Он не просился в парижане, не хлопотал о славе. Он жил здесь для себя и учился. На мольбертах в его мастерской стояли этюды, какие делают неофиты Парижа... Он опять пробивался к лучшему в себе».
Этюды Сарьян рисует прямо на улице, радуясь, что «в Париже никто не подойдет к тебе во время работы… в других местах сейчас же собираются над головой, задают вопросы, делают замечания, громко обмениваются мнениями». Однако, увидев здесь сотни эмигрантов, среди которых и знакомые из Ростова, и разоренные богачи из Москвы, и белые офицеры, работающие таксистами, он напишет позже: «Горе здесь тому, у кого нет денег!» Встретился ему и любимый учитель — Константин Коровин, почти все время проводящий за набросками в арт-кафе и страдающий от ностальгии.
Но к Сарьяну Париж благосклонен. В январе 1928 года после двух коллективных выставок советскому художнику устраивают персональную экспозицию. В знаменитом салоне Шарля Жирара он показывает около 40 новых работ: частично это его взгляд на Париж, частично — на Армению из Парижа. Текст к каталогу написан известнейшим критиком Луи Вокселем, это он в 1905-м придумал термин «фовизм», назвав Матисса и его группу «дикими зверями» — les fauves. Фовистом считался и Сарьян. Теперь Воксель изрекает: «Сначала Сарьян нарисовал Армению, а уже потом ее создал Бог».
Успех грандиозен, но эти картины никто, кроме посетителей той выставки, никогда не увидит. По дороге из Парижа все работы французского периода сгорели дотла… В порту Константинополя внезапно вспыхнули опилки, на которых лежали ящики с полотнами — и «от моих сорока картин остался лишь небольшой клочок холста». Узнав об этом в Ереване, Сарьян пришел в ужас. Два года работы стали буквально прахом.

Затравленный формалист. Живая легенда
Чудовищная участь постигнет и одиннадцать полотен Сарьяна в 1937 году, в темные времена Большого террора. Работники НКВД Армении — его новой свободной республики — снимут со стен музея сарьяновские портреты, чтобы уничтожить навсегда — теперь это лица врагов народа. Картины Сарьяна сожгут, как «антинемецкие» книги Ремарка, Хемингуэя и Гейне в гитлеровской Германии, как пластинки Beatles в богоугодной Америке. После того случайного пожара на парижском корабле холсты теперь горели преднамеренно.Трудно представить, что чувствовал художник — ни в одном интервью, ни в своих письмах и мемуарах он ни словом не обмолвился об этом. Возможно, то же, что и после пожара на корабле: «Я преодолел свою печаль и продолжал работать и жить с моим народом и для него» — этой фразой он, кстати, оборвал свою автобиографию.
Одна картина, двенадцатая, все же сохранилась: страшно рискуя, музейные работники 20 лет прятали «вражеский» портрет — упрямое лицо поэта Егише Чаренца, обвиненного в контрреволюции и троцкизме. Сам Чаренц — поэт и переводчик Маяковского, Горького, Пушкина — сгинул в том же 1937 году в тюремной больнице. (В 50-х годах был реабилитирован, и в его честь даже переименовали город Лусаван — стал Чаренцаваном.)Есть мнение, что имя Сарьяна тоже значилось в черном списке НКВД, и репрессирован он не был только потому, что за него заступился первый секретарь армянского ЦК КП(б) Григорий Арутинов. А еще потому, что на Всемирной выставке в Париже 1937 года четырехметровое панно Сарьяна «Народные промыслы» получило гран-при (сейчас оно находится в Третьяковке, как и многие другие картины художника).
Удивительно, но вопреки канонам того времени, на панно не было Сталина. Почему? Сарьян якобы сумел убедить кураторов, что пишет только с натуры, а это, понятно, было невозможно. Зато в 1946 году он самоубийственно смело взялся за портрет опальной Ахматовой, сразу после громкого исключения ее из Союза писателей.
Но в 1948-м и на него в печати обрушились упреки — в формализме, в пороке идеалистического мировоззрения, в излишней красочности. И бог его знает еще в чем, потому что было ясно: он другой, не идейный. «Индивидуалист» и «интеллигент» были словами ругательными, а он писал: «Краски в картине должны быть как солисты в ансамбле. Что за удовольствие видеть вместо отдельных лиц безликую толпу?»Замученный травлей, в порыве разочарования и глубокой депрессии он режет одну из лучших своих картин — «Египетские маски». От полной гибели ее спас один из учеников, зашедший в мастерскую: придя в ужас от увиденного, он начал кричать, что Сарьян не имеет права так поступать, что картина уже не его личная, она национальное достояние. Схватив лист картона, ученик склеил на нем расчлененные куски холста; в таком состоянии работа экспонировалась в самых известных музеях, а реставрирована была уже после смерти мастера.
В «оттепель» дышать Сарьяну уже легче. Он становится легендой, живым классиком. В 1960-х ему дают звание народного художника СССР, Героя Соцтруда, Ленинскую премию. В Ереване открывают Дом-музей Мартироса Сарьяна. К нему приходят горы писем и бесконечные делегации. Изданы мемуары. О нем снимают документальный фильм: музыку пишет родной сын Лазарь, закадровый текст — известный публицист Илья Эренбург, называвший Сарьяна «одним из крупнейших, если не крупнейшим советским художником». Его персональные выставки проходят в ГДР, Венгрии, Румынии, Чехословакии.
Два коротких рассказа о Сарьяне печатает человек «с похожей фамилией», как он сам говорит, известный американский писатель Уильям Сароян, лауреат Пулитцеровской премии. Сарьяновскими иллюстрациями для книги армянских сказок он был зачарован еще в 1935-м. Прочесть книгу не мог, но наслаждаясь «безмолвным армянским шрифтом», навсегда запомнил «солнечные, осязаемые, красно-желто-коричневых пейзажи», которые «говорили о том же, только еще красноречивее».
Сарьян напишет портрет усатого Сарояна, когда ему самому будет уже 80 лет. Кстати, и в 80, и в 90 он, угловатый седой старик, варпет, как называют армяне великих мастеров и как называли Сарьяна, по восемь часов стоит за мольбертом. И последняя картина его будет «Сказкой» — она закончена в 92 года, после чего он прожил только пару месяцев.
Пикассо как-то сказал: «Некоторые художники изображают солнце желтым пятном, другие превращают желтое пятно в солнце». Сарьян — солнечный и рьяный — всю жизнь превращал желтую краску в яркое солнце, которое светит до сих пор.Партнер проекта «Гражданин Ростова-на-Дону» — банк «Центр-инвест». Один из лидеров отрасли на Юге России, «Центр-инвест» с 1992 года развивает экономику региона, поддерживает малый бизнес и реализует социально-образовательные программы. В 2014 году при поддержке банка создан первый в России Центр финансовой грамотности. Сейчас их пять: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Таганроге, Волгодонске и Волгограде. Уже более 600 тысяч человек получили бесплатные финансовые консультации. В их числе школьники, студенты, предприниматели, пенсионеры.
«Центр-инвест» известен также как учредитель и организатор ежегодного Всероссийского конкурса среди журналистов на соискание премии им. В. В. Смирнова «Поколение S».