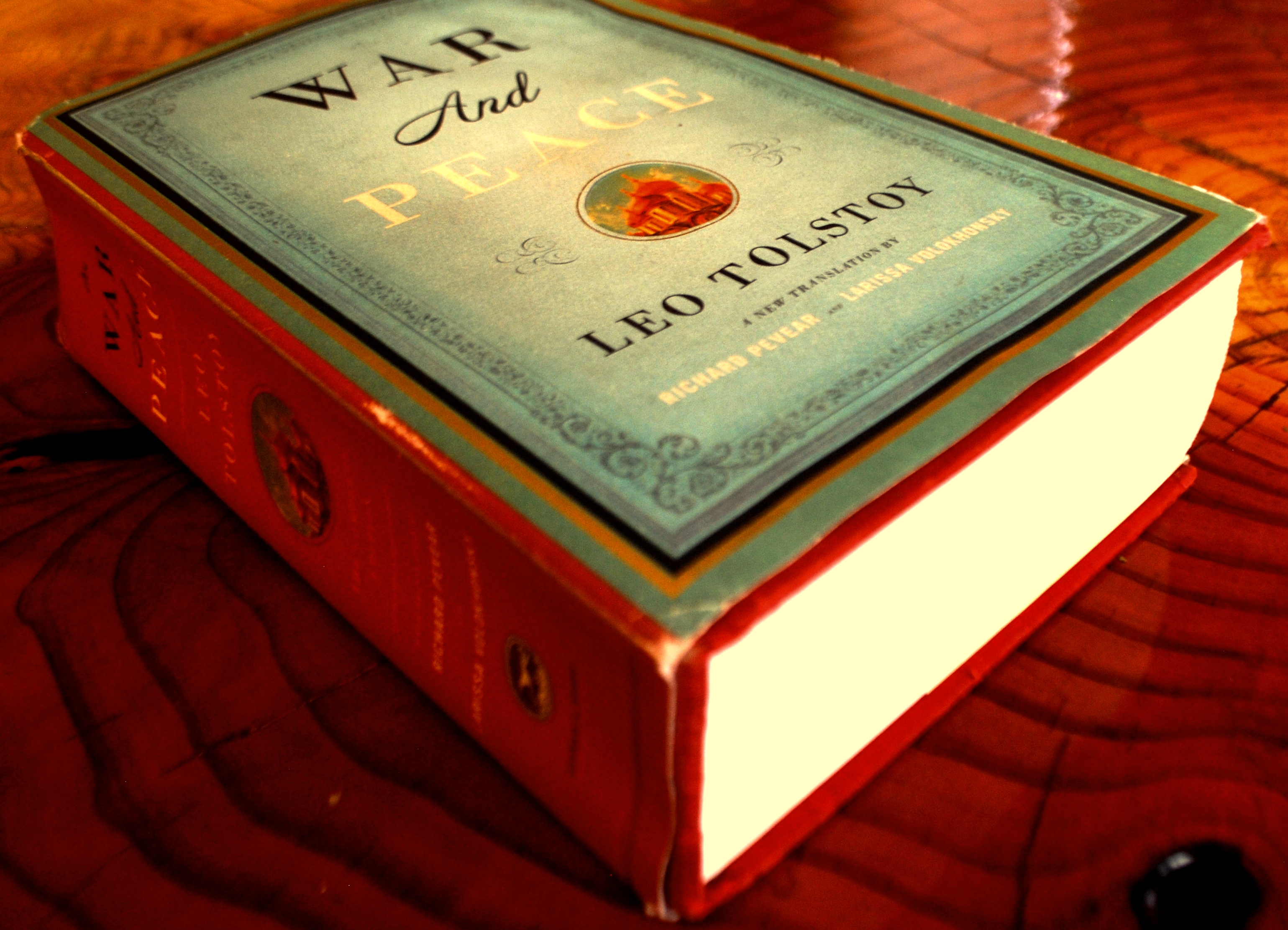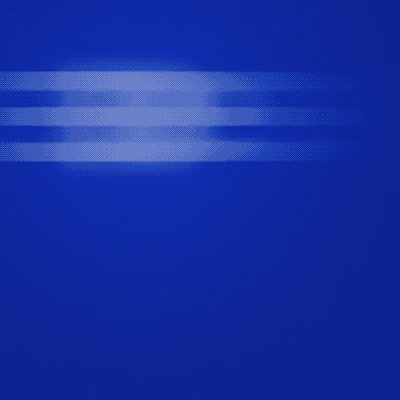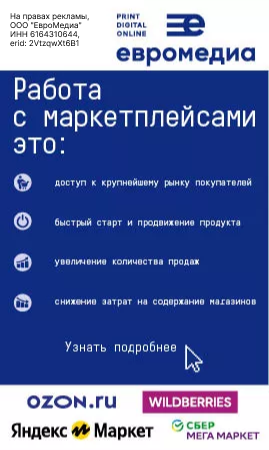Базар? Прекрасно! Мы как раз накануне поздно закончили съемку и, не успев, как следует, запастись питанием, отправились в дорогу. В общем, несмотря на бессонную ночь и усталость вся наша молодежная группа помчалась на базар…
Режиссер Пырьев сказал нам, что сцены на выставке будем снимать прямо на ВДНХ, в промежутках между бомбежками.
Эта картина и сейчас у меня перед глазами… Небольшой базар наводнен покупателями. Все чего-то галдят, суетятся. И вдруг на полную мощность включается громкоговоритель: советское информбюро передает речь Молотова, которая теперь уже стала историческим фактом: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…»Мы оцепенели. Никто ничего не мог понять. Но после слов: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» громкоговоритель замолчал, и народ стал разбредаться. Не было ни истерик, ни воплей. Люди еще не осознавали весь масштаб катастрофы. Война — это ведь где-то там, далеко.
Но в отличие от местных жителей мы спокойствием похвастаться не могли и рванули в аэропорт. Ведь если теперь самолеты не летают — значит, мы застряли в Минводах?
Из-за паники мы по дороге заблудились, пересекли какой-то лесок, прочесали кладбище и непонятно каким чутьем выскочили к аэропорту на противоположном конце взлетно-посадочной полосы. Когда, наконец, мы ввалились в зал ожидания, наши опасения подтвердились. Ничего не оставалось, как сдать билеты и мчаться на вокзал в надежде достать хоть какие-нибудь билеты на поезд.

Нам все-таки повезло. Узнав, что в Москву должна вернуться съемочная группа со всем своим реквизитом, бутафорией и кофрами, набитыми костюмами, начальник станции распорядился выделить нам отдельные места. И мы кое-как втиснулись. Об удобствах не приходилось и мечтать: на каждой станции пассажиры брали состав штурмом, ехали стоя, лишь бы только ехать…
Ясное дело, я был уверен, что съемки «Свинарки и пастуха» отложены на месяц-другой — то есть до тех пор, когда война прекратится. Не было никаких сомнений в том, что мы разобьем врага на его территории и война завершится, даже не успев распустить свои кровавые щупальца. Госпропаганда с ее оптимистичным настроем на завтрашний день делала свое дело.
Когда увидели, что я не волочу языком, обозлились и устроили товарищеский суд. Они были уверены, что я накануне перебрал и не смог вовремя проснуться.
В Москве я узнал, что буквально накануне нашего приезда режиссер Иван Пырьев ушел добровольцем на фронт. А через несколько дней я и сам получил повестку и был направлен в танковое училище. Однако недели через три меня вызвал к себе начальник училища и с недовольным видом вернул документы. Оказалось, что пришел приказ за подписью министра кинематографии Большакова, в котором говорилось о продолжении съемок «Свинарки и пастуха». Всех мужчин, занятых в съемках, вернули на «Мосфильм» и выдали бронь.Таким образом, я не смог поучаствовать в боях и не столкнулся с врагом на передовой. Моим фронтом стало искусство.
Пырьев нам сказал, что сцены на выставке будем снимать прямо на ВДНХ, в промежутках между бомбежками. Но труднее всего, мне казалось, посреди знойного лета снимать зимнюю Сибирь. Однако Пырьев решил, что съемки пройдут в павильонах «Мосфильма». И когда мы туда пришли, то просто ахнули от восхищения. Мастера выстроили целую настоящую деревню — множество деревянных изб, в одной из которых жила Глаша — героиня Марины Ладыниной.
Мы буквально жили на киностудии. Работали по две смены, поскольку военное положение с каждым днем усугублялось и становилось понятно, что так скоро врага не победить. Но Пырьев был Пырьевым. Если ему не нравилась сцена, он заставлял ее переснимать, не обращая внимания ни на дефицитную пленку, ни на указания начальства готовиться к эвакуации в Алма-Ату. Помню, как снимали последнюю сцену «Свинарки…» — ту самую, где старик чабан курит трубку, а мой Мусаиб Гатуев теребит его и не может успокоиться: «Отец, ты стар. Но у тебя сердце юноши. Ты складываешь такие песни, которые поет весь аул. Сложи песнь о моей любви, пламенную и нежную, как весеннее солнце. Я вложу ее в конверт и отправлю заказным письмом на север, туда, где бор, где много-много снега…» А дальше возникала песня старика, который сочинял письмо для моего Мусаиба. Конец фильма.
Ничего сложного, мне казалось, играть тут не надо. Я хорошо со своей задачей справился и, довольный, что мы уложились в график, завершил свою сцену. Но вдруг Пырьев устроил нам такой разнос, что сделалось стыдно. Он заставил переснимать еще и еще — до тех пор, пока сцена не достигнет нужного качества. Я говорю это к тому, что даже в войну выдающийся режиссер не давал никому никаких поблажек.
Потом была эвакуация в Алма-Ату (там мы озвучивали «Свинарку и пастуха»), работа в местном Русском театре, переезд в Чимкент и участие во фронтовых концертных бригадах.Мне приятно рассказать журналу «Нация», что в 1942 году мне спас жизнь уроженец Ростова-на-Дону, замечательный военный летчик Николай Подзоров. Однажды во время гастролей нашего театра меня поселили в небольшом бараке, который отапливался дровами. И я, забыв открыть заслонку, надышался во сне угарным газом. Утром Коля, случайно заглянув ко мне в барак, увидел, что я не дышу. Вытащил на мороз и стал откачивать. Думаю, провозился он долго, поскольку я с огромным трудом пришел в себя и еще целые сутки не мог шевелить языком. Если бы не он, меня бы давно уже не было в живых.
В тот день мы играли спектакль для шахтеров. Собрался весь коллектив театра, а меня нет. Решили, что это просто мои капризы. А когда прибежали за мной и увидели, что я не волочу языком, обозлились и… устроили товарищеский суд. Они были уверены, что я накануне перебрал и не смог вовремя проснуться. Мне стало до слез обидно, поскольку все в труппе знали о том, что я в жизни не брал в рот спиртного, и вдруг такое обвинение. Не посадили меня благодаря все тому же Николаю Подзорову. Он выступил в мою защиту, подробно описав, как было дело. К счастью, ему поверили.
Надо ли говорить, что оставаться рядом с такими артистами я больше не хотел. И едва в 1943 году получил из Москвы приглашение вернуться в Театр транспорта (ныне «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. — «Нация»), с удовольствием собрал свои вещи и уехал. В Москве я и встретил Победу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НИКИТА ВЫСОЦКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОТЦЕ