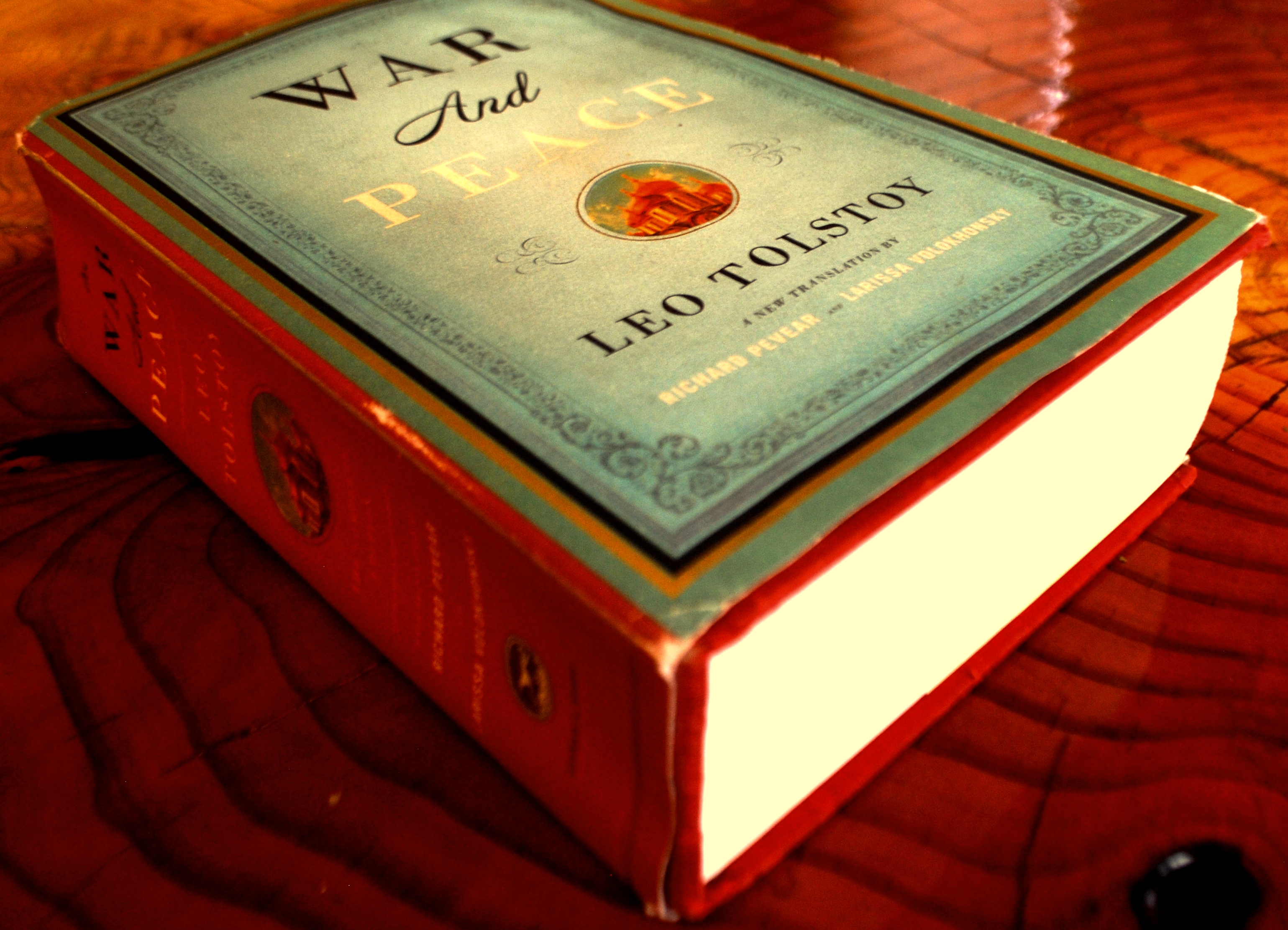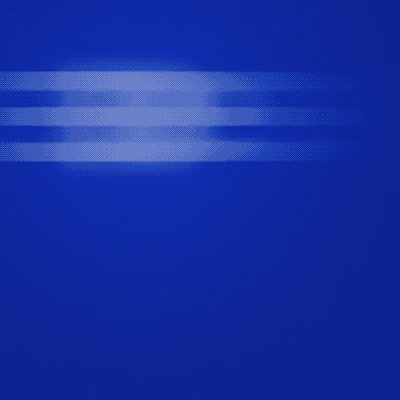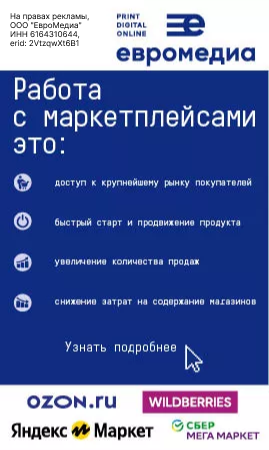Валерий Нистратов, 44 года, москвич. Начал карьеру в 17 — со съемок военных конфликтов на территории агонизирующего СССР. Много путешествовал по России и Азии. Крупные работы последних лет: книги «Титульная нация» (портреты типичных русских, совместно с американцем Джейсоном Ашкенази), «Risseim Patriarchat» (о жизни афганских женщин после падения режима Талибан, совместно с швейцаркой Джудит Хубер), «Лесостепь» (итоги путешествий по России за 12 лет).
Нистратов выставляется в России и за границей, работает с The New York Times, Time, Newsweek, Le Monde и другими зарубежными СМИ. Преподает в московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко.
— У вас есть проект Nope («Нет»). Почему вы решили посвятить русским женщинам отдельный проект, и почему «Нет»?
— Масса моих друзей-иностранцев утверждает, что русская девушка — это что-то особенное. Они говорят так: с Россией все понятно, а с русской женщиной непонятно ничего. Для них русская женщина — это своего рода аттракцион.
Это такой проект, которым, по сути, я всю жизнь занимаюсь. Фотографии не продолжают одна другую, каждый снимок — самостоятельный образ. И я не вижу конца этой истории. Наверное, проект будет закончен, когда я умру (смеется).Вообще, не принято, чтобы мужчина снимал женщину. Считается, что женщина женщину понимает лучше. То, что я делаю, это довольно рискованно, в современном искусстве такое не любят, многие женщины — кураторы выставок — они с феминистскими убеждениями.
Россия — очень женская страна. Здесь много мужчин, которых воспитали исключительно женщины, сплошная безотцовщина.
Энергия современных девушек мощнее, чем у парней. Несмотря на это, многие русские девушки все еще живут в ожидании какого-то чуда: появится некий мужчина и решит все ее проблемы. Они хотят, чтобы им приносили все на блюдечке просто потому, что они женщины. Чрезмерные ожидания, иллюзии, какие-то мамины внушения в детстве.
В мегаполисах, правда, другая ситуация: там сохранить традиционный уклад, с семьей и детьми, довольно сложно. Много соблазнов, много возможностей. Не каждая женщина готова смириться с ролью просто домохозяйки. Она думает: сколько можно, я же могу испанский учить, управлять самолетом, делать все, что угодно. В Нью-Йорке — 40% одиночек, они там уже вообще не мыслят категориями семьи.А называется серия Nope, потому что когда русская девушка говорит «нет», это значит либо «да», либо «посмотрим». То есть это ничего не значит.
— Как изменились отношения женщины и мужчины в России — если сравнивать, например, с поколением ваших родителей?
— Я очень хорошо помню 1980-е: конец периода стагнации, вместе с тем жуткая бытовая культура, поголовное пьянство, орущие бабы, бегающие от своих мужей-алкашей. Исковерканное время, отсутствие элементарной сексуальной культуры, жизнь в замкнутом пространстве, когда живешь с детьми в одной комнате.
Если говорить про отношения с мужчиной: 40 лет назад они строились, как большая сага, художественный фильм. Одна любовь на всю жизнь, какие-то обреченные мысли — вот, если не сложилось, значит, уже не суждено. Сейчас отношения с мужчиной больше похожи на эпизоды сериала. И женщина стала не такой обреченной, ее оставили в покое, она автономна — во всяком случае, в крупных городах.Женщины сейчас лучше и интереснее, чем мужчины. Если брать среднестатистического русского мужчину: это поверхностный человек, который не всегда ухаживает за собой, выпячивает свои маскулинные качества, воспринимает женщину, как вещь, мол, баба должна быть рядом.
— У вас есть и проект «Синдром Медеи» — про убийство детей матерями. Почему взялись за такую жуткую тему?
— Сразу оговорюсь: это не научная и не журналистская работа, я не пытался дать объективную картину. Меня заинтересовала природа именно убийства женщиной.
Я случайно обнаружил, что в 2015 году был пик убийств детей матерями. В лентах было очень много информации об этом, она шла потоком, и никто не делал на этом никакого акцента. Меня потрясло, что было много именно хладнокровных преступлений: когда мать просто решала, что ей в силу разных причин больше не нужен этот ребенок. Меня поразило, что это вообще можно сделать осознанно.
Например, женщина, стоя за прилавком, родила ребенка, выкинула его в выгребную яму и продолжила работать. Был случай, когда выкинула двух маленьких детей с балкона из мести своему мужу. Таким образом она решила сделать самое страшное, чем можно уязвить человека — уничтожить то, что от него произошло. Или случай во время празднования Нового года: ребенок плакал, его выбросили в сугроб и продолжили отмечать дальше.
Мои фотографии в этом проекте соединены с короткими текстами информагентств. Они не иллюстрируют напрямую, что произошло: снимки легкие, немного абсурдные.

После всех этих историй я понял, что это какая-то невероятная свобода интерпретации своих поступков. Эти женщины вообще не осознают ценность человеческой жизни.
— Чем русские женщины отличаются сегодня от западных и восточных?
— Несколько лет назад ко мне приехал один француз, мы идем по улице, и он спрашивает: «Валера, а что, тут где-то публичный дом рядом?» Я говорю: «Нет, с чего ты взял?» Он: «Ну, у вас тут ходят в таких коротких юбках!» Я объясняю: «Да они просто одеваются так».
Наши девушки хотят показать себя. На Западе же уже нет никакой разницы между «м» и «ж». Если женщина флиртует, мужчина воспринимает это как манипуляцию. У женщин принято подчеркивать свою независимость. В Скандинавии, Британии женщины уже немного не женщины.
На Востоке, в исламском мире, все по-другому: там все мужское, женщина не с мужчиной, а при мужчине. В начале 2000-х со швейцарской журналисткой мы делали книгу про женщин Афганистана после падения режима Талибан. Это был крайне радикальный режим, женщина не могла вообще ничего. На тот момент это было одно из самых опасных мест в мире вообще, снимать женщин было безумием.Как-то мы поехали на швейную фабрику. Кабул после талибов — полуразрушенный, в руинах, там как в Средневековье. Я поснимал, вышел на балкон покурить. Рядом горы, аэропорт. Выходит девушка, Надия ее звали, лет 20 ей, может, было, и говорит: дай мне сигарету. Мне показалось, я ослышался. Там же совершенно особая коммуникация с девушками, ты просто так близко к ней подойти не можешь. Она повторяет: дай сигарету, я быстро покурю, пока никто не видит. Смотрит на меня в упор, говорит: я ненавижу эту страну, я хочу отсюда уехать, меня отец насильно привез из Пакистана (Пакистан был более свободной страной). Я даю ей сигарету, она быстро курит, плачет при этом, самолеты взлетают рядом. Докурила и говорит: а ты можешь мне медведя плюшевого сюда прислать, когда вернешься к себе? Я говорю: могу, наверное.Жили мы в укрепленном районе: в маленьких домиках, нас охраняли, рядом взрывы все время. Туда обычный человек просто так не пройдет. Она узнала, где я живу, пришла на следующий день. Я говорю: что ты делаешь, что будет, если отец узнает? Она плачет, просит: ты снимаешь, ездишь целый день, возьми меня с собой, я буду сзади сидеть. И я брал ее с собой. Она что-то постоянно комментировала, смеялась. Водитель-афганец проклинал меня: зачем ты с ней связался, ты не понимаешь, как надо общаться с нашими девушками.
В последний день перед нашим отъездом она попросила проводить ее от машины до дома. Она жила на какой-то дикой окраине с глинобитными домиками. Я говорю: я не могу, меня твой отец увидит. Водитель мне: не иди! Но я пошел с ней по этой дороге, как по подиуму, у всех на виду. Афганские подростки, когда видят европейца, начинают орать: hello, mister, hello, mister! А если ты им не отвечаешь, камни бросают в тебя. Дошли, проводил.Я нарушал местные табу. Например, когда снимал свадьбы, ходил к женщинам (по мусульманским обычаям, мужчины и женщины отмечают свадьбу по отдельности). Когда возвращался, бородатые мужики на меня с каменными лицами смотрели.
Я, кстати, надевал паранджу — мне было интересно, что женщины чувствуют. Это очень удобно, никто на тебя не смотрит, как на тело. Мы же как смотрим — оценивая формы, а тут ты смотришь в никуда, в сетку какую-то.
Там, если ты европеец, афганцы тебе предлагают слуг. У меня было двое — женщина и мужчина. Для нас это дико, для них это норма, это надо просто принять, и все. Через 2-3 месяца я привык. Слуги тебе чистят обувь, приносят еду, чай. Ты думаешь, что это для них унижение, а для них это круто, престижно на самом деле.— Вы недавно доделали «Архаику» — серию, объединенную темой русских сказок и мифологии. Почему эта тема? Россия снова ищет какую-то национальную идентичность?
— Этот проект в русле антимодернизма родился из серии путешествий по России. Русского человека тянет к сказкам, он по каким-то причинам не хочет быть взрослым, ему нравится, когда им манипулируют и что-то за него решают. Отчасти поэтому мы не можем никуда двинуться. Русские — не очень свободолюбивый народ, ну, лично для меня. Но когда я приезжаю куда-то и мне доказывают, что Добрыня Никитич и Змей Горыныч существовали, мне это даже нравится, где еще найдешь такое (смеется). Мне нравится эта детскость, сказочность, такое коллективное впадение в маразм. Я смотрю на все явления, происходящие в России, и пытаюсь искать в них какую-то эстетическую ценность, пытаюсь все это визуально осмыслить.Сейчас в моде тема реконструкции: например, человек строит дом какой-нибудь сказочный с русалками, лешими, Бабой Ягой. Вообще с помощью мифологий можно как-то управлять сознанием человека, его ментальностью. Эта сказочность — оттого, что в глубине души мы не можем жить исключительно материальными ценностями.
Мне интересно находиться в сказке. Я не буду снимать в той стране, где нет абсурда.— Где, в каких экспедициях вам бывало страшнее всего — из-за физической опасности или потому что вокруг была совсем уж безнадега?
— Я испорчен визуальным ко всему отношением, я вообще страха не осознаю. У меня это атрофировано, я могу жить в любых условиях вообще. Меня можно десантировать куда угодно. Например, однажды я полетел в Сибирь, делать проект про Тунгуску, где метеорит упал. Договорился с летчиками, чтобы они меня выкинули в деревню. Туда вертолеты редко прилетают. Вертолет завис, я вылез. На меня люди смотрят, как индейцы, которые первого человека увидели: привет, ты кто, зачем ты тут? И начинаешь объяснять, вживаться в обстоятельства, в быт.
И мне неважно, как жить — с алкоголиками или в пятизвездочном отеле. Я, разумеется, понимаю, что в отеле лучше, но, если для чего-то надо жить с алкоголиками, я готов. Меня волнует только то, что я могу там снять.
Я могу, конечно, сотню историй рассказать, как кто-то в кого-то стрелял, убивал. Другой вопрос, должен ли мужчина об этом рассказывать. Да, был период, когда я ездил на военные конфликты. Это был драйв, я тогда не занимался фотографией осознанно, для меня это было просто приключение.
Тогда, в 1990-е, никогда никаких билетов не было. Ты приезжаешь в Домодедово, даешь 20 рублей охраннику, проникаешь туда, где командиры самолетов подписывают разрешительные документы на полет. Находишь нужного тебе командира, говоришь, что тебе надо улететь, втираешь ему долго, почему. Он объясняет, где стоит самолет, ты прямо по летному полю к нему идешь, садишься — это называлось «на подсадку». И так каждый раз.
В Сараево стояла адская жара. Весь город простреливался, все воевали со всеми. Передвигаться можно было только перебежками. Ходить нельзя: я видел, как передо мной шел человек, в него попала пуля, насмерть сразу.
Одна из первых поездок была в Сараево. Югославская война, один из эпизодов, когда возникла боснийская республика, Сербская Краина.Я прилетел в Белград и две недели ждал там своего югославского друга-фотографа. Мой агент дал мне с собой огромную пачку денег — 2 или 3 тысячи долларов, я не знал, куда их положить, для 1992 года это огромные деньги, в Москве можно было квартиру купить. Я просто рассовывал их по карманам и ходил, как неваляшка, расплачивался долларами в сербских пабах.
Мой друг прибыл, мы ехали три дня, проехали всю Хорватию, въехали на территорию этой Сербской Краины. Аэропорт был взят, и нам надо было пересечь его, чтобы попасть в Сараево. Нас предупредили, что снайперы стреляют там со всех точек. И мой друг внезапно говорит: я не поеду туда. Я ему говорю: ты что, ***** (обалдел), что ли? Мы три дня ехали, я ждал тебя до этого две недели! Я не знаю, как я его уговорил. Это был первый раз в жизни, когда я по взлетной полосе ехал на бешеной скорости. Мой друг нажал на газ, мы пригнулись, пронеслись, по нам стреляли. Мы буквально ворвались в Сараево.Там была адская жара. Весь город простреливался, все воевали со всеми. Передвигаться можно было только перебежками — от точки к точке. Ходить нельзя: я видел, как передо мной шел человек, в него пуля попала, насмерть сразу. Жили одно время в гостинице, один этаж которой был разрушен. Меня как-то арестовали там, но все кончилось благополучно.
Ни одного русского до меня в воюющем Сараево не было. В конце 1993 года я понял, что мне достаточно горячих точек.
Как-то у меня была странная поездка на Чукотку. Тот же 1993 год, конфликт с парламентом, я бегал там, снимал, ничего толком не снял и уехал. Я был на острове, где проходит линия смены дат. От адской скуки охотился с чукчами на моржа. Ноябрь, лютый холод, ты садишься в вельбот и отправляешься в открытое море. Для чукчей охотиться на моржа все равно, что для охотников в центральной России охотиться на кабана или зайца. Жить там было особо негде, мне дали какую-то кибитку — фанерный дом, где по мне по ночам бегали крысы. Из еды в основном была красная рыба и мерзлая картошка. Я был юный, мне еще было непросто психологически это переживать — месяцы поездок.Спустя много лет я понял, что устал снимать человека, мне нужно снимать пейзаж. Но пейзаж особенный — не красоты родного края. Есть такое направление в фотографии — человеко-измененный пейзаж. Был красивый лес, и туда стал вмешиваться человек: строить, например, коттеджный поселок. Ради этого я на три года переехал из Москвы в Подольск. Я обошел Москву за МКАДом целиком. Я спускался с МКАДа и шел в абсолютно неизвестном направлении, надеясь, что будет какой-то знак свыше, случай — и он все время происходил, это было одно из самых сильных потрясений, которое я испытал в фотографии.
— Вы всю жизнь снимаете Россию. Какой он на самом деле — русский человек?
— Я, конечно, могу сказать, что русский человек какой-то там загадочный, но мне кажется, что все это полная ерунда. Русский человек для меня — абсолютно такой же, как и любой другой. Если ты приедешь в Африку, ты увидишь там и деревеньки, и какую-то африканскую элиту, которая может рассуждать про Марселя Пруста.
Меня беспокоит, что к нам все относятся особенно, со снисхождением. То, что мы какие-то особенные — это миф, запущенный в конце XIX века. Многие верят, что мы какой-то народ-богоносец, это все чушь мистическая.
Еще русским кажется, что о них кто-то думает. Могу сказать из своего опыта: о нас никто не думает вообще, не вспоминает, никому мы не нужны и не интересны. Полагать, что о нас кто-то думает и за нас кто-то переживает — это очень русская черта.Я недавно был в Череповце от New York Times с американцем из Гарварда. Он ходит напряженный, озирается. Я ему говорю: а что тебя напрягает здесь вообще? Пойдем пивка выпьем. Он говорит: мрачновато как-то. И потом начинается: у русских демократии нет и все прочее. Я ему: почему ты мыслишь этими категориями североамериканских ценностей? Просто смотри на это — здесь даже здорово, смотри, снеговик стоит, палатка какая-то черная валяется, посмотри на цвет, на форму, на оттенки черного.
Или едем по Перми — с другим американцем. Проезжаем мимо здания администрации. Он говорит: «Валера, а что это? Здесь что, легализована марихуана?» Я: «Это флаг Пермского края». Он: «Да ладно, а похоже на флаг какого-то островного государства типа Доминиканской республики!» Это же здорово — такое восприятие.